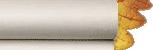Андрей ТАРАКАНОВ  Аутисты
М.: «Вест-Консалтинг», 2025
Роман Андрея Тараканова начинает интриговать, едва прочтешь заголовок. Почему «Аутисты»? Если этот диагноз становится смыслообразующим, значит, речь в романе пойдет о медиках? И если все так серьезно (аутизм — это не заболевание, которое можно вылечить, это, если можно так выразиться, состояние души), чем закончится взаимодействие главных героев с внешним миром?
А дальше начинается самое интересное. Миров оказывается несколько, они равнозначны, более того, проникают друг в друга, поддерживают, и в конце концов становится ясно, что друг без друга существовать не могут, хотя бесконечно далеки друг от друга. В самом деле, что может быть общего у людей, живущих в Древнем Риме, и наших современников?.. История Пуденции как бы противопоставляется истории Лизоньки, но вместе с тем, «ныряя» из одного мира в другой, девушка в итоге понимает, что за все ошибки надо платить, что однажды совершенное зло запускает цепь событий, на которые уже нет возможности повлиять… Если только — исправить. В следующей жизни. Андрей Тараканов помещает свою героиню в психиатрическую лечебницу, и все события, происходящие с ней в «иной» реальности, видятся нам как особые состояния психики, требующие если не врачебного вмешательства, то пристального наблюдения специалиста. Оттого и воспринимаются эти события как бы «несерьезно», хотя именно они являются движущей силой сюжета. Именно там герои задают друг другу и сами себе философские вопросы. И это сделано специально: у тех героев (Пуденция — дочь сенатора, избалованная, богатая девушка) есть время и силы на рефлексию, не то что у современников, ежедневно спешащих на работу…
Невольно вспоминается знаменитый роман Булгакова «Мастер и Маргарита» — те же приемы (наличие нескольких миров), то же диалектическое противостояние добра и зла, те же мастерски организованные переходы между двумя сюжетами. Только Андрей Тараканов не заигрывает с нечистой силой, поскольку и на земле хватает мерзости. Например, жестокости, которая прикрывается «благими» намерениями создать инновационное лекарство. Роман насыщен разнообразными событиями, детективная линия нарастает с каждой страницей, а между строк легко видится попытка автора ответить на короткий, но «вечный» вопрос: «Что такое любовь?». Язык автора цветист, предложения длинны, их построение удивляет и немного сбивает с толку: разве сейчас, в эпоху клипового мышления, люди способны воспринимать «медленное», плавное течение повествования, которое то и дело «съезжает» на размышления, чтобы дать волю течению мыслей центрального персонажа? Следует заметить, что автор долгое время прожил в Германии, поэтому бросается в глаза педантичность, с которой описаны сюжетообразующие подробности. Немецкий язык очень точен в деталях, там существует строгий порядок слов, при этом сами слова довольно громоздкие. Откройте любую немецкую газету — впадете в ступор: газетные статьи содержат по четыре-пять слов, соединенных в одно, длиннобуквенное и неповоротливое. Эта особенность языкового мышления немцев невольно прорастает на русской почве: некоторая «искусственность», неторопливость изложения придает языку изложения неповторимую «изюминку»: он как будто немного «не наш», это чувствуешь, но понимаешь не сразу, оттого еще интереснее наблюдать за развитием событий: чем кончится любовная линия дочери сенатора и воспитанника философа Сенеки? Куда делась жена доктора? Останутся ли вместе Лизонька и Герман?.. При этом автор не ханжа: откровенные сцены в романе прописаны достаточно подробно, однако эти подробности не скатываются до уровня банальной «заманухи»: авторское чутье нащупало ту тонкую грань, переходить которую не стоит, если не хочешь, чтобы читатели объявили книгу «непристойной».
С каждым прочтением книги читателю открываются новые смыслы: например, вопрос о кровном родстве главных героев, который мучает читателя с первых страниц, под конец романа оказывается не столь уж и важен. Главное — как изменились эти люди в процессе взаимодействия друг с другом. Отрытый финал оставляет читателю простор для воображения: кем же все-таки приходится доктору эта загадочная девушка? Такие мелочи, как родственная связь или настоящее имя — не те факты, на которых нужно заострять внимание, гораздо важнее — что из себя человек представляет, какое настроение он транслирует во внешний мир: «Покончив наводить порядок, Александр Фёдорович устало опустился возле стола на табуретку и взял серый конверт в руки. Щелкнул зажигалкой. Крохотный огонек нехотя лизнул конверт. Набирая силу, он пополз по бумаге, превращая в бессмысленный пепел то, что принадлежало доктору, что он привык называть своим настоящим или воображаемым прошлым, а в темное окно заглядывало запятнанное лицо Луны».
А вопросы читателя множатся: каково влияние прошлого на нашу психику и наше поведение? Доктор перечитывает письмо Лизоньки, постоянно возвращается к нему и не может успокоиться, поскольку девушка рассуждает об очень важных вещах: «Сегодня я занимаюсь изучением аутизма. По сути, занимаюсь изучением самой себя. Ведь все человечество, как бы оно того ни отрицало, на деле аутистично. Единственная разница с теми, кого мы называем своими пациентами-аутистами, лишь в том, что они отрицают настоящее, а мы отрицаем прошлое, что по сути одно и то же». Пытливый читатель тут же продолжит цепь рассуждений: это что ж получается, каждый из нас… того? Выходит, так. В каждом из нас есть эта зацикленность, замкнутость на самом себе, о чем и поведал нам пьяненький врач (на трезвую голову об этом рассуждать страшно): «Аутист не видит связи между своими действиями и тем, что происходит с ним. Мы все аутисты. Только не знаем о том. Нам запрещено это знать». Диагноз неутешительный. Однако, если вдуматься, в нем есть немалая доля правды (не могу сказать, что он стопроцентно верен, это было бы слишком тяжело признать!): нам тяжело услышать другого и сделать так, чтобы поняли нас. Александр Фёдорович, например, «прозревает» только на последней странице романа: «Я понял, что Лизка не просто фантазировала или философствовала, она жила, ставя в основу мировосприятия не мысли, а чувства. Только ее чувства не находили отклика в моей душе. Она не узнала меня, а, быть может, и узнала, но хотела, чтобы узнал ее я. Не такую, как я сам для себя ее представлял, какая мне удобна, а ее настоящую!» Кроме того, наше самовосприятие далеко не всегда объективно: нам кажется, что с нами легко и хорошо, а собеседник, возможно, наелся этим общением по самое «не хочу», поскольку его не слышат. Если говорить о романе, то влюбленные едва не расстались из-за недопонимания в этой жизни, а уж в «римской» истории все кончилось трагически, и только осознание своих ошибок спасает пару в нашем времени. Причем, что символично, они по-прежнему из разных социальных слоев, только в этой жизни поменялись местами: в наши дни Герман — академик, а Лизонька — скромная выпускница мединститута. А если по-честному, вопросы человеческих взаимоотношений всегда волнуют больше, чем абстрактности вроде относительности времени или возможности перевоплощения души. Например, трогает за душу кульминационная сцена, в которой главная героиня сбивчиво объясняется с Германом, и мы ее понимаем: «— Герман? — прошептала Лизонька. — С тобой все хорошо? Ты живой? Я не причинила тебе зла? Ведь тогда, в Риме, в таверне ты… Кантидий… я…» Она тоже «закрывает» свой вопрос, и два мира сливаются в настоящем, приходят к согласию… Разговаривая, люди частенько стремятся не к обмену информацией, а к возможности оставить за собой последнее слово. Но когда беседа — всего лишь способ самоутвердиться, донести свое «драгоценное» мнение, и начинается диалог с самим собой, социальный аутизм, от которого не так-то просто вылечиться. Единственный способ предотвратить его — захотеть услышать другого…
Вера КИУЛИНА
|