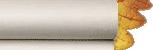|
ПОЭТ ИВАН ДАРЬКИН
(Фрагмент романа «Посланец Вавилона»)
«Ко всякому, слушающему слово о царствии и не разумеющему,
приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его».
/Евангелие от Матфея, 13; 19/
Проснулся он оттого, что первые солнечные лучи, пробившись сквозь кроны деревьев, заглянули в склеп через зарешеченные стрельчатые окна под куполом. В их свете лицо спящей рядом женщины показалось совсем незнакомым; видно, перед сном она сняла густой слой косметики и сейчас от вчерашней вульгарности в ее облике не осталось и следа: чуть трепетали негустые рыжеватые ресницы, целомудренно розовели щеки, а в легкой припухлости губ таилась детская доверчивость.
Легко снявшись с жесткого ложа, Спаситель перекрестил заблудшую, отчего та улыбнулась, потягиваясь с кошачьей грацией и капризно спросила сквозь полуприкрытые веки:
— Знаешь, который час?
— Семь утра, — отозвался Спаситель.
От звука его голоса она открыла глаза и залилась густым румянцем:
— Прости, пожалуйста. Я забыла, что Ванечка меня бросил... «Ты мне надоела, Мария. Ловишь каждое мое слово, угождаешь, плачешь над моими стихами...» Выгнал, как собаку…»
Когда вышли наружу, разгоралось солнечное утро, и приютивший их склеп предстал в полном великолепии портика, где меж двух пилястр с нарядными резными капителями, как раз над фигурами скорбящих, восседал в неглубокой иные мраморный Борис Февральский — в тоге и с развернутым свитком в руках, на котором золотились два четверостишия:
Козополякский крематорий,
Земных путей скупой венец!
Как иного жизненных историй
Здесь обрели один конец.
И я с надеждой уповаю,
Что весь подвластный мне народ
Меня в трудах не забывает
И в час молитвы помянет.
— Это Ванечкины стихи, — с гордостью проговорила Мария. — Он служит кладбищенским поэтом у Бориса Аркадьевича.
— Я хочу его видеть, — сказал Спаситель.
— Это можно, — помявшись отозвалась Мария. — Только от него всякое можно ожидать... Истинные поэты непредсказуемы...
— Я хочу ему помочь, — уточнил Спаситель.
— Кладбише состоит из трех полей, — прилежно рассказывала Мария, когда они среди надгробий, словно бы соревнующихся в роскоши, двигались в столону крематория. — Одно — для олигархов. Некоторые строят целые мавзолеи, окруженные серебристыми елями... На другом высшие государственные чиновники. Эти любят, чтобы захоронение затыкала добротная кованая ограда, в коде бронзовки бюст покойного и стол для поминальных заседаний... Третье поле захватили самые крутые российские братки. Им портрет усопшего в полный рост на мраморной стеле и сентиментальные стихи, вроде «не ушел я, мама, от пули, но навеки ушел от тебя...» Ну а простой люд хоронят на болоте.
Казалось, вместе со смытой косметикой очистилась речь Марии, исчезли те словечки и интонации, что выдавали в ней уличную девку. Сейчас она больше походила на старательного экскурсовода, хорошо знающего предмет.
— Все они одинаково воры, — заметил Спаситель. — Все они одинаково умерли в грехах своих.
— Вот именно! — горячо подхватила Мария, — Потому-то Ванечка и страдает...
Утро было ясное, словно бы промытое, деревья и травы щедро искрили россыпью росы, нацеленная в небо труба крематория еще бездействовала, и оно непорочно голубело.
Миновали длинное приземистое здание каменотесной мастерской с выставленными образцами надгробий, отблескивающих извилистой ночной влагой; в торце его чернела табличка: «ИЧП Иван Дарькин. Ателье ритуально-литературного обслуживания населения».
Ателье состояло из одной комнаты, обставленной казенной офисной мебелью. Стены ее увешаны были многочисленными портретами поэта, запечатленного в позе усталого гения, а также приколотыми обрывками бумаги с беглыми стихотворными набросками; они испуганно встрепенулись от воздушного потока, пахнувшего от входной двери.
Иван Дарькин — молодой мужчина с широким испитым лицом русского мастерового, нервической, капризной складкой тонких губ и заносчивым подбородком, — дымил вставленной в мундштук едкой «Примой» за конторским столом, захламленным остатками ночного, судя по всему, застолья; пахло тут застарелым табаком, винным перегаром и консервами в томатном соусе.
— Ты же обещала, что ноги твоей тут больше не будет, — с ироническим прищуром обратился он к Марии, вовсе не замечая ее спутника и гордым движением откинул назад развевающиеся русые волосы, отчего дрогнул в его руке наполненный стакан, проливаясь рубиновыми каплями.
— Я вовсе не к тебе, — обиженно поджала губки Мария. — Я человека привела.
— Да брось ты! — покривился Дарькин — Шлюхи всегда тяготели к поэтам. — Он ополовинил стакан и, сделав глубокую затяжку, обратил наконец мутный осветлевший взгляд на визитера, который следом за Марией, так и не дождавшись приглашения хозяина, осторожно присел на один из стульев для посетителей. — Чем же могу помочь человеку? Эпитафия, речь при прощании с усопшим, поминальный тост? Предоплата тридцать процентов, срок исполнения — не более суток. За дополнительную плату текст может быть составлен в присутствии клиента...
— Это я пришел помочь тебе, — смиренно отозвался Спаситель.
— Напрасно она тебя сюда притащила! — выкрикнул поэт, гневно розовея щеками. — Пил и буду пить!
Он опустошил стакан и надрывно прокричал, набухая шеей:
Развяжите мне душу,
Отпустите на волю,
Я Руси не нарушу
Безотрадную долю!
На погосте при жизни,
Но еще не мертвец,
Одеваю отчизне
Свой терновый венец!..
— Ну что, разве я не лучший поэт России?! — победительно тряхнул он волосами, с вызовом глядя на Спасителя. — Если ты согласен с этим — поцелуй меня!
Разверзлась тяжелая тишина. Мария охнула и прижала руки к груди в предчувствии скандала.
Дарькин взял за горлышко, как гранату, пустую бутылку; лицо его исказила жалкая угрожающая гримаса.
И тут Спаситель поднялся, бесшумно подошел к поэту и коснулся губами щеки.
— Что и требовалось доказать! — восторжествовал Дарькин.
— Ты меня не понял, — проговорил Спаситель, занимая прежнее место. — Милость и истину принес я тебе... Ибо тот, кто говорит от себя, ищет похвалу самому себе. Тот же, кто ищет славы пославшему его говорит истину, и в нем нет никакой лжи.
— Уж не самого ли ты Господа Бога посланник? — ядовито спросил поэт.
— Я есмь, — кротко отозвался гость.
— Даже если это так — не судья ты мне! — вскипел Дарькин. — Поэт сам себе высший судия! А значит — и милость, и истина! Убирайтесь оба!
Когда они выходили, вслед полетела пустая бутылка и со звоном разбилась о стену.
— Если душа не принадлежит Богу, она принадлежит дьяволу, — уверенно проговорил Спаситель.
Испытание
В армейском «газике», между притиснувшими его с двух сторон мускулистыми конвоирами, под теплый гул мотора, Вяткин ощутил то безразличие усталости, что наваливается после долгого и непосильного труда: столько было за последние дни стрельбы, войсковых передвижений, бессонницы, – что даже такой исход казался чуть ли не избавлением. Россия совершила очередной кровавый исторический виток: демократы, пришедшие к власти в начале девяностых, потеряли поддержку народа из¬за предательства Президента и с боями уступили власть прокоммунистической хунте генерала Большакова, а их идейный вождь, поэттрибун Геннадий Вяткин был пленен…
Машина ехала по узкой, плохо уложенной бетонке, а по сторонам простирался унылый осенний пейзаж Подмосковья с полуголыми деревьями и пустошами цвета медвежьей шерсти.
«Унылая пора, очей очарованье…» – вспомнилось Вяткину, и тут «газик» вымахнул на вершину холма, и вдали обозначилось громадное строение в виде бетонной звезды. На всех пяти углах его высились аляповатые копии Спасской башни, соединенные грубым подобием кремлевской стены, а вершина представляла собой уступчатую пирамиду, напоминающую мавзолей Ленина.
На железных воротах был выведен несколько вылинявший лозунг «Слава коммунизму!», и какойто человек в солдатской гимнастерке и галифе старательно подновлял его серебрянкой. При виде подъехавших он спустился со стремянки, вытащил из¬за уха огрызок химического карандаша, помусолил его и расписался крестом на двух экземплярах сопроводительной бумаги, которую офицер конвоя в фуражке с васильковым околышем протянул ему на своей планшетке. Военизированный маляр, аккуратно сложив свой экземпляр вчетверо, сунул его в нагрудный карман гимнастерки, на которой краснела звездочка ордена, и распахнул перед Вяткиным неприметную калитку.
За спиной захлопнулась ее дверь, автомобиль, взревев мотором, умчался, а поэт очутился в широком бетонном проходе, над которым алел транспарант: «Даешь перековку!»
Потом он долго шел изломанным коридором, не слыша своих шагов в затоптанном войлочном покрытии пола. Слева тянулась серая стена, а справа окна с искусственными цветами в горшках. Сквозь их непромытые, как в пригородных электричках, стекла все же можно было разглядеть треугольный внутренний двор, лежащий между двумя лучами строения и зубчатой стеной. По нему маршировали бойцы в буденовках и длиннополых шинелях, тускло отсвечивая штыками винтовок¬трехлинеек. В центре возвышался дощатый помост с виселицей. На нем немолодые мужчины в сиреневых майках и длинных сатиновых трусах строили гимнастическую пирамиду в виде звезды из своих жилистых, посиневших от холода тел.
«Готовятся к седьмому ноября», – почему¬то подумалось Вяткину.
Коридор закончился железной, выкрашенной «под дуб» сейфовой дверью, на который висел портрет Ленина, делающего ручкой с лукавым прищуром улыбки: «Верной дорогой идете, товарищи!»
Поэт дернул за ручку, и на него пахнуло крутым махорочным дымом: трое военизированных людей стучали в домино за дощатым столом посреди голой комнаты; двое других, сидя на подоконнике, играли в шашки. У каждого из них на гимнастерке краснел орден, тесемки галифе были аккуратно завязаны на щиколотках, а ноги обуты в синие войлочные тапочки.
От всего этого повеяло чемто домашним и неопасным.
– Евсеич, к тебе! – крикнул один из доминошников.
С подоконника легко соскочил сухой, как стручок осеннего гороха, старик с пористым утиным носом и незабудковыми глазами врубелевского Пана.
– Милости просим, – сказал он, оправляя гимнастерку под солдатским ремнем. И снял с гвоздя связку ключей на вытертом до блеска проволочном кольце.
Снова Вяткин шел беззвучным, мертвым коридором. Но теперь с левой стороны тянулись пронумерованные металлические двери с окошками для подачи пищи и круглыми накладками глазков. Коридор перегораживали решетки, замки которых Евсеич проворно открывал, всякий раз с ловкостью фокусника улавливая нужный ключ.
– Вас велено в пятый сектор, – пояснил он.
Наконец они очутились в обитой войлоком камере, вдоль стен которой лепились столик с привинченной к полу табуреткой и деревянные нары, покрытые суконным солдатским одеялом с отштампованной звездой и надписью «НОГИ». Под потолком зияла поперечная прорезь оконца с козырьком«намордником», наглухо закрывающим дневной свет, а справа от двери журчал порыжевший, пропахший мочой унитаз; сверху из подведенной к сливному бачку трубы падала искристая капель, расплываясь темным пятном на войлочном полу.
– Обратно надо сантехника вызывать, – посетовал Евсеич. – Что за народ…
– Как политический заключенный требую… – начал было Вяткин, пытаясь сбросить странное, полусонное равнодушие к собственной судьбе.
– Какой же ты заключенный, милок? – удивился старик. – Хотишь – прохаживайся на здоровье туды¬сюды, хотишь – полеживай на боку… Я даже завидываю тебе! Ни забот, ни хлопот! Приспичило по маленькому или же по большому – удобствия рядом… А то в шашки стану с тобой играть… У нас, ежели кто с умом и принимает перековку – до больших должностей может дослужиться! – многозначительно указал он в потолок.
Оставшись одиночестве, Вяткин лег поверх одеяла и уснул, мгновенно погрузившись в призрачный, мышиный сумрак узилища.
* * *
Вскинувшись от резкого металлического лязга двери и разом теряя остатки сна он увидел в камере худого, сутулого человека с темным безрадостным лицом и насупленными бровями. Положив на стол обшарпанный фибровый чемоданчик, гость уселся на табуретку, соорудил самокрутку и, лениво дымя, сосредоточился на проржавевшем сливном бачке.
– Текёт и будет течь, – заключил он.
Потом извлек инструмент, встал на унитаз и принялся за работу.
Вяткин заметил белесые полукружья пота у сантехника под мышками и сделал вывод, что у него здесь много работы, наверное, не одна сотня таких вот камер…
– Чуть что – Евграф… – гудел между тем тот, щурясь от дыма. – Евграф – туды, Евграф сюды… Выходит, вы хоть и начальство, а без Евграфа ни шагу… А чего тут ремонтировать, когда трубы не менялись, почитай, с нэпа… Когда в эти унитазы еще недобитая буржуйская контра ходила, всякие профессора да уклонисты… – Орден у гостя был расчетливо привинчен на клапане гимнастерочного кармана, и, орудуя разводным ключом, Евграф спрятал его внутрь, чтоб не мешал. – Ну, отверну я тебе муфту, – ворчал он, как бы включая Вяткина в свой монолог. А что толку, резьба все одно не держит… Пакли намотаешь, а через день опять потекет… Тут один выход – стояк перекрывать. А перекрою – в своем дерьме утонете… Закрывайте, говорю, лавочку на капремонт, а они: нету лимитов… На кумач для лозунгов у них лимиты есть, на винтовки да вешательную веревку – сколько угодно… А на трубы нет! Чуть что – аврал, Евграф, выручай…
Следуя неистребимой повадке советского мастерового, обслуживающего интеллигента, сантехник сколько мог загадил пространство вокруг своей работы смачными плевками и обрывками пакли, пор мочился, не смывая после этого унитаз, и бросил туда окурок. Потом выскреб орден а волю и начал хмуро собирать чемоданчик.
– Тут, наверное, клопы, – неуверенно предположил Вяткин.
– Не, клопов нету, – неожиданно подобрел Евграф. – У нас насчет этого строго. Блохи есть. Потому что войлок. Но блоха что, прыг, и нету ее…
Вскоре явился Евсеич с веником и совком.
– А насвинячилто, варвар, – проворчал он, подметая за водопроводчиком. – За что таким ордена дают…
Мусор он вынес в коридор, а возвратившись, почти весело пригласил:
– Милости просим на обезличку.
В пахнущем хлоркой тесном предбаннике, куда привел поэта его тюремный Вергилий, двое орденоносных мужчин перекуривали у покрытого клеенкой стола, где были разложены складные бритвы прошлого века, широкий ремень для их заточки и несколько кусков хозяйственного мыла. На полу стояло ведро с какимто едким пенистым составом, из которого торчала длинная ручка малярной кисти.
– Разоблакайтесь, – предложил Вяткину Евсеич. – Одежу на пол, больше не понадобится.
Вяткин принялся раздеваться, стыдясь своего поношенного, рыхлого тела.
Мужчины загасили окурки, один из них вынул из ведра кисть и, буркнув «подыми руки!» сноровисто перекрестил ею узника, ткнув сперва подмышки, а потом в низ живота. Второй деловито приступил к бритью этих мест.
В хорошо освещенную, пахнущую дешевым одеколоном комнату он вошел, прикрывая ладонями свое оголенное, подростковобеззащитное естество.
– Прошу вас, любезнейший! – бойко пригласил его полный лысый старик в заношенном белом халате, улыбаясь дряблыми щеками в бородавках. – Меня зовут Фукс Исаак Соломонович. – И он профессиональным жестом обмахнул дерматиновое кресло с подлокотниками. – Всегда рад свежему человеку!
Он разговаривал с Вяткиным, словно тот был одетым, не придавая значения его сконфуженности, и несмотря на непривлекательную внешность, содержал в себе нечто располагающее.
– Ах, какой волос, какой волос! – восхищался он, любовно расчесывая бороду поэта. – Для настоящего мастера нет большего удовольствия, чем работать со спелым волосом! Вам подойдет фасон «буланже»! – он безбожно картавил, ни на минуту не прерывая своего монолога. – Какие бороды, какие головы, знали бы вы, прошли через мои руки! Эсеры, меньшевики, троцкистскозиновьевский террористический центр, правотроцкистский блок… Где эти бороды, где эти головы… И знаете, в чем была их главная беда? Они не уловили суть марксистского учения: жить, чтобы выжить…Вы умный человек, уверен, здесь вас ждет большое будущее…
В работе он напоминал вдохновенного творца перед холстом, а закончив ее, торжественно произнес:
– Готово, молодой человек! Вот вам настоящая буланже!
– Вы просто художник… – подивился Вяткин, изучая свое отражение в зеркале.
– Э¬хе¬хе… – покачал головой Фукс, печально любуясь своим произведением. – Человек предполагает, а руководство располагает… Придется сбрить. Не положено.
И взяв со стола механическую машинку, со вздохом принялся оголять щеки и голову узника.
В банном отделении, где поэт мылся в полном одиночестве, все было, как в его детские послевоенные годы: шайки из оцинкованного железа, прессованная мраморная крошка скамеек, мыльная скользота каменного пола и большие медные краны холодной и горячей воды с деревянными ручками.
Распаренный и отяжелевший он вернулся в предбанник, где получил черную робу с номером на спине и тяжелые ботинки без шнурков.
Евсеич проводил Вяткина в камеру и, прежде чем пожелать спокойного отдыха, с удовлетворением отметил:
– Ну, вот, теперь на человека стал похож! А будешь добросовестно исполнять наш Устав, проникнешь в коммунистическую идею – глядишь, до орденоносца дослужишься… Но сперва положено тебе пройти испытание.
* * *
Испуганно вскинувшись со сна Вяткин обнаружил в камере вооруженных людей в кожаных тужурках и шинелях, наполнивших его тесное прибежище запахами табака, ружейного масла и сапожной ваксы.
– Комиссар Углов, – представился, скрипнув кожанкой, худой бледный мужчина в пенсне и с бородкой, придающей ему сходство с Дзержинским. – Объект шестьсот семьдесят три, следуйте за нами.
Окончательно проснулся он, когда по выщербленным кирпичным ступеням стали спускаться вниз. Замершие у поржавевшей двери часовые откозыряли Углову и со скрипом распахнули ее.
То, что увидел Вяткин в пахнущей подвалом низкой комнате с грубо оштукатуренными стенами, живо напомнило ему известный семейный портрет царской семьи, расстрелянной большевиками в Екатеринбурге. На стульях сидели, едва различимые в свете тусклой электрической лампочки бывший первый Президент страны и его жена, которая зябко куталась в шаль. Она прижимала к себе трехгодовалого правнука с игрушечным танком в руках. Сзади, опираясь на плечи родителей, стояли бледная, увядшая президентская дочь с мужем, обросшим инеем щетины. Между ними поместилась балетнограциозная президентская внучка, даже здесь не утратившая обаяния молодости. Она смотрела на вооруженных мужчин с презрительной гримаской и поглаживала черную собачку с беспокойными ушами. В третьем ряду теснились остатки президентской свиты: двое плечистых телохранителей с кровоподтеками на лицах, пожилая горничная в белом переднике, обремененный круглым животом врач с фонендоскопом на шее; наконец, старый повар в несвежем, сбившимся набок колпаке.
С появлением чекистов в застывшей группе этой произошло невольное движение; при этом собачка злобно затявкала, а Президент нервно провел ладонью по смятому бобрику седых волос.
В свое время поэт горячо поверил этому человеку, вышедшему из партийной номенклатуры, но нашедшему в себе силы отменить статью Конституции о правящей роли КПСС, деполитизировать армию и раздать землю крестьянам. Но жажда власти оказалась необоримой: назначив зятя председателем Комитета по печати, радио и телевидению, распустив парламент и объявив себя единоличным правителем страны с правом передачи верховной власти по наследству, Президент предал своих прежних сторонниковдемократов…
В стихах той поры Вяткин называл его «душителем надежд» и «кровавым диктатором»; сейчас же увидел перед собой растерянного старика и устыдился своей прежней ненависти.
– Товарищи… позвольте… Что все это значит? – слабо встрепенулся Президент, когда вооруженные чекисты выстроились у противоположной стены.
– Революционный Комитет поручил мне ознакомить вас с постановлением Штаба национального спасения, – отозвался Углов и, поправив пенсне, зачитал: «Ввиду обострения обстановки на фронтах и угрозе реставрации кровавой диктатуры, Штаб национального спасения постановляет: бывшего Президента страны признать виновным в кровавых насилиях над собственным народом и приговорить к высшей мере наказания – расстрелу».
– Это незаконно! – выкрикнул Президент в крайнем возбуждении. – Я категорически протестую! Требую открытого судебного процесса!
Кто¬то вложил в руку Вяткина холодную, ухватистую тяжесть револьвера, шепнув:
– Ваша цель – дамочка с песиком. Постарайтесь прямо в сердечко, чтоб не мучилась.
– Позвольте! – выкрикнул, колыхнув животом, врач. – Медицина всегда была вне политики! Прошу меня немедленно освободить!
– А меня за что? – завопила вдруг горничная. – Да я их всех терпеть не могу! Сидят себе на пляже, а ты снуешь челноком. То кофе им подай, чтоб не остыло, то мороженое, чтоб не растаяло! От коттеджа до моря триста метров, а у меня тромбофлебит!
– Я автор всемирно известного салата «Великий Октябрь»! – подхватил повар, негодуя дряблыми щеками. – У меня было будущее! А чего хорошего получилось? Ни семьи, ни личной жизни… Все отдано Кремлю…
– Вилку за обедом уронят – так ни в жисть не поднимут! – добавила горничная. – С какой стати мне за них умирать?!
К ней присоединились телохранители, и обслуга подняла невообразимый гвалт, смысл которого сводился к единодушному желанию покинуть хозяина.
– Служить у них было хуже царизма! – заключил повар.
И до Вяткина вдруг дошло, что событие почти столетней давности, когда в подвале купеческого дома свита последнего российского царя предпочла разделить с ним смерть, и нынешнее оголтелое предательство Президента обслугой – свидетельство необратимой духовной деградации народа, измордованного революциями и реформами…
– Обслуживающий персонал может покинуть помещение! – приказал Углов, складывая «расстрельную» бумагу и пряча в карман тужурки.
Президентская челядь, толкаясь, устремилась на выход.
– Приготовиться! – скомандовал комиссар, извлекая из кобуры наган.
– Нет! – выкрикнул Вяткин, преодолев, наконец, свою почти гипнотическую скованность и отшвырнул револьвер в угол комнаты. – Я не стреляю в женщин, детей и стариков!
И сделав несколько бесчувственных шагов, встал с семьей Президента.
Грянувший затем залп отбросил его к стене и, сползая по ней на пол, поэт видел перед глазами искристые, быстро гаснущие звездочки. «Это похоже на салют» – была его последняя мысль.
|